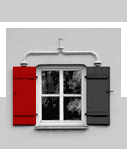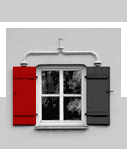Мишель Рио «Архипелаг»
|
Мишель РИО. Архипелаг
[отрывок]
Я пересек двор, открыл массивную дверь и вошел в библиотеку, занимавшую большую часть первого этажа. Это был громадный зал, около двух тысяч квадратных метров, с лепным потолком и галереей, тянувшейся вокруг на уровне середины стен, а сами стены восьмиметровой высоты были сплошь заставлены книгами, выстроившимися на полках резного дуба, частью потемневших от времени и долгого служения, частью более новых, но в точности таких же, как их старшие собратья. Библиотека, вначале небольшая, в XIX веке вдвое, а в XX в четыре раза расширила свое помещение, поглотив соседние комнаты. <…>
Фонд библиотеки, постоянно пополнявшийся новыми изданиями, насчитывал более ста тысяч томов – солидная цифра для частной библиотеки, – а также бесчисленные комплекты научных и литературных журналов. Существовал также особый фонд, которым ученики могли пользоваться только в виде исключения и в котором хранились неоценимые для библиофила сокровища. Я очень любил библиотеку, которую часто посещал с тех пор, как поступил в колледж, и все же зал меня подавлял.
Я сразу заметил библиотекаря Леонарда Уайльда – он сидел за письменным столом на возвышавшемся над залом помосте в стратегической позиции у самого выхода. Библиотекарь поднял голову и уставился на меня. Я мог подойти прямо к полке, взять любую книгу и устроиться за пюпитром. Иметь дело с Уайльдом и его картотекой приходилось лишь в том случае, если ты брал книгу на дом.
Но мы были вдвоем, и, несмотря на огромные размеры зала, трудно было не обратить друг на друга внимание. К тому же, не говоря уж о требованиях обычной вежливости, я считал своим долгом представиться и поблагодарить его, потому что в принципе у него тоже были каникулы и он имел полное право запереть библиотеку – запретить ему это не могла бы и сама Александра Гамильтон. Я остановился у помоста. Уайльд искоса изучал меня своим проницательным взглядом, похожий на птицу, которая не может смотреть прямо и отворачивает голову, чтобы воззриться на тебя с высоты своего насеста. Диковинная птица был этот Леонард Уайльд. До сих пор я общался с ним только тогда, когда того требовали мои занятия, и, посещая эти шесть лет библиотеку почти ежедневно, едва ли обменялся с ним десятком фраз. Но я знал о нем по рассказам. Он появился в колледже вскоре после приезда Александры Гамильтон, и библиотека, которой несколько веков коллегиально управляли директор и преподаватели, практически стала его личной собственностью, что вначале вызвало немало кислых замечаний, а кое-кто даже открыто возмущался. Рантен изложил предмет тяжбы новой хозяйке учебного заведения, считая, что она распорядилась так по молодости лет и неопытности, он сослался на традицию, на то, что необходимо щадить самолюбие людей и найти компромиссное решение, но ответ был сухим и категорическим: «нет». Из него заключили, что Уайльд пользуется непонятным покровительством сей таинственной и недоступной Дианы. Впрочем, то был единственный случай, когда Александра Гамильтон проявила свою власть. Перед лицом этой непреклонной твердости недовольные уступили и, не без досады и горечи, привыкли проникать на прежнюю коллективную территорию с тягостным чувством, что они браконьерствуют в заповедных лесах. К тому же им пришлось признать высочайшую компетентность Уайльда. Он усовершенствовал и привел в порядок все старые каталожные ящики и завел новые. Вдобавок он начал составлять предметный указатель – титаническая работа для одного человека. Он не только без раздумий мог ответить, есть ли в библиотеке труд, о котором его спрашивали, он почти всегда был знаком с его содержанием, о каком бы предмете ни шла речь. Эта грандиозная, энциклопедическая, почти противоестественная культура вызывала смешанное чувство почтения и подозрительности, потому что немногим преподавателям хватало чувства юмора, чтобы оценить дилетанта, который лучше их был осведомлен если не в основах их предмета, то по крайней мере в истории вопроса вплоть до новейших времен. С другой стороны, как раз в тот год, когда Уайльд вступил в должность, скромный бюджет библиотеки внезапно заметно увеличился, и фонды, три с половиной столетия пополнявшиеся довольно скупо, за десять лет выросли почти вдвое, отчего и потребовалось построить галерею. Уайльд же создал особый фонд, чтобы сохранить самые редкие и ценные издания, которые при длительном и слишком частом пользовании могли быть безвозвратно погублены, – причем библиотекарь тотчас вновь вводил эти книги в обращение, покупая по возможности более новые, менее ценные их переиздания или просто те же самые издания, но в лучшем состоянии. Кроме того, он необычайно расширил отдел периодики, который до него был довольно убог.
Эта нечеловеческая продуктивность, эта пугающая ученость в сочетании с замашками аристократа и ироническим, едким, на грани цинизма умом создали Уайльду репутацию грозного оригинала и, отпугнув как самых великодушных, так и самых неустрашимых, образовали вокруг него полосу отчуждения. Им восхищались, но его не любили. <…>
Дело в том, что не только по своей духовной сути, но и по своей внешней оболочке Уайльд был единственным в своем роде чудищем. Это был Винчи с наружностью Калибана, Квазимодо, лишенный горба и наделенный гениальностью. Его уродство, зачаровывающее и отталкивающее, было пропорционально его интеллекту как по масштабу, так и по силе воздействия на окружающих. Он наверняка страдал от этого, но виду не показывал, и, по-моему, его страдание проявлялось косвенно в двух тенденциях, довольно полно выражавших его характер: он будто нарочно подчеркивал свою отталкивающую внешность упорной неряшливостью в одежде, в этих местах воспринимавшейся почти как вызов, а свои неслыханные познания, которые могли бы стать источником плодотворных и щедрых отношений с людьми, превратил в настоящее оборонительное оружие, в ощетиненную колючками преграду между собой и другими. И, однако, он нуждался в общении, может быть, просто потому, что таким образом мог упражнять свое красноречие – дар, на котором, хоть он и пользовался им как мечом или молотом, зиждилось его самосознание. Все это я уже подозревал и прежде; хотя мне ни разу не пришлось всерьез с ним общаться, меня всегда интересовала эта личность, за которой я пристально наблюдал, а теперь мою мысль подтвердили последние слова Александры Гамильтон: «Это мизантроп, который не выносит одиночества». Кстати, услышав это замечание, я вновь задумался над вопросом, который задавали себе все окружающие: что за загадочные отношения связывают красавицу и чудовище? Внешний вид Уайльда и определявшаяся им его нелюдимость имели, как уже сказано, конкретное следствие: он редко покидал пределы библиотеки и никогда – пределы Hamilton School, поэтому я надеялся, что чтением сумею как-нибудь развеять скуку, которую не могло не вызвать мое затворничество и характер dea abscondita – той, что была его причиной.
Стоя у подножия возвышения, я поклонился Леонарду Уайльду.
– Подойдите, юноша, подойдите, – сказал он, продолжая созерцать меня своим взглядом василиска.
Я поднялся по ступенькам к его столу. Библиотекарь встал и очутился прямо передо мной. Я был выше его по крайней мере на целую голову. Его туловище производило впечатление какого-то сгустка силы. Руки и ноги у него были короткие и толстые. Громадная голова почти без шеи, казалось, сидела прямо на неимоверного размаха плечах. Дряблые щеки, огромный безгубый рот рептилии, временами открывавший щербатые, вкривь и вкось торчащие зубы, пожелтелые от табака; смехотворно короткий нос картошкой, да вдобавок косящие глаза – один светлый и острый, как серо-голубой стальной клинок, другой темнее, замутненный не то каким-то врожденным бельмом, не то ранней катарактой; асимметричные уши со вздутыми мочками, мощный выпуклый лоб, осененный буйными зарослями седых косм, – все это вместе образовывало такую уродливо несообразную, но, с другой стороны, такую необыкновенно выразительную внешность, что трудно было отвести от него взгляд. И в этом хаосе неожиданно обнаруживались два совершенства: кисти рук с длинными тонкими пальцами, которым могла бы позавидовать женщина, и замечательный голос, глубокий, теплый, идеально поставленный, едва ли не потрясавший своей музыкальностью, который как нельзя лучше обслуживал сокровища ума Уайльда и неиссякаемые запасы его обольстительного и едкого красноречия. На библиотекаре был видавший виды серый костюм. Лоснящиеся на коленях брюки были ему велики и закручивались спиралью на его коротких ножках. Пиджак, блестевший на потертых местах, с локтями, где уже проглядывала основа ткани и вот-вот должны были появиться дыры, с карманами, оттопыренными Бог весть каким содержимым, казалось, снят с огородного пугала. Жилет с оборванными пуговицами местами пузырился, открывая сероватую мятую рубашку, которая в далекие времена своего великолепия была, очевидно, белой; уголки ее воротничка топорщились над гранатового цвета галстуком, прожженным во многих местах сигаретой. Самый обнищавший и наименее требовательный по части щегольства старьевщик не дал бы за это одеяние ни гроша. Однако на всей этой ветоши не было ни пылинки, она не источала того удушающего прогорклого запаха, который обычно исходит от одежды, слишком долго облекавшей грязное тело, с которым она под конец образует тошнотворную амальгаму. Уайльд, который с вызывающим упорством старался вырядиться как пария, демонстрируя отчаянное стремление следовать девизу «чем хуже, тем лучше», был педантично чистоплотен. <…>
Слегка склонив голову набок, Уайльд с минуту всматривался в мое лицо. Я с притворным спокойствием старался выдержать его взгляд, снова, в который раз, смущенный проницательностью этих глаз и зачарованный его уродством.
– Итак, – заговорил он наконец, – вы приняли несуразное приглашение мадам Гамильтон. Меня удивляет, что интересный молодой человек, которому метрополии Европы могли предложить набор разнообразных удовольствий, предпочел разыгрывать анахорета. Что побудило вас заживо похоронить себя здесь?
Этот вопрос, полный иронического подтекста и пробудивший во мне неприятное воспоминание о первой реакции Алана, рассердил меня; я понял, что в будущем ничего хорошего от наших отношений ждать не приходится. Но в то же время моя робость исчезла, сменившись некоторой даже воинственностью. Хватит мне уже выступать в роли этакой белой вороны только оттого, что я оказался гостем Александры Гамильтон.
– Вы хотите, мсье, чтобы я ответил вам формально или искренне? Что-то вроде улыбки приподняло уголки узкой, словно прорезанной бритвой трещины, которая заменяла Уайльду рот.
– Меня вполне устроил бы формальный ответ. Но я избавлю вас от неблагодарных усилий по его поиску. Переменим тему. Он взял со стола стопку каталожных карточек.
– До сих пор наши отношения отличались сдержанностью и граничащей со скупостью экономией слов. Но я знаю вас лучше, чем вы полагаете. Видите эти карточки? Они извлечены из общей картотеки, которую я составил для моего личного удобства на основе библиотечных формуляров. К этому разделу каталога под названием «Читатели» имею доступ я один – рубрикаторами в нем служат имена всех абонентов, сопровожденные списком книг, которые они брали для прочтения с тех пор, как я вступил в должность. Это мой способ общения с людьми. Возможность познакомиться с ними, не имея нужды выносить их бестолковую и пошлую болтовню. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты, мог бы заметить я, переиначив известную поговорку. Карточки, которые лежат передо мной, касаются вас. За шесть лет и несколько месяцев вы тысячу шестьдесят два раза брали книги для прочтения. Это много. Вы посрамляете преподавательский состав, что не может меня не радовать. Вы в одно и то же время проявляете эклектизм и постоянство. История, физика, биология – для того, кто изучает философию, набор уместный и оправданный. Эта триада должна определять наше мировоззрение. Умствования допустимы лишь потом. Нет ничего хуже профессиональных мыслителей и их общих идей. В наши дни они уже даже не несут собственного вздора, а комментируют вздор, накопившийся за минувшие века. Эрудиты беспредметности. Наследники пустоты. Ну и хватит о них. Из художественной литературы – современных авторов считанное число. Одобряю вас. В них нет той археологической глубины, которую придает вымыслу дистанция времени. Литературная иллюзия может представить некоторый интерес, когда она обрастает сроком давности. Это задумчивый лик Истории. Утверждать, что вчерашнее произведение остается злободневным, – я не говорю сейчас об удовольствии, какое доставляет чтение, оно может сохраняться, – намерение благое, но неблагодарное. Если произведение талантливо, значит, этот тезис ошибочен; если тезис верен, стало быть, произведение бездарно, ибо только банальности выдерживают испытание временем. Что до мира сегодняшних чувств, то что такого могут нам сообщить нынешние убогие профессиональные мечтатели, чего бы мы не нафантазировали сами в своих убогих мечтах? Вижу также, что многие книги были возвращены вами сразу после того, как вы их взяли. По-видимому, вы не в восторге от трудов по социальной психологии и морали – они с приметной быстротой возвращаются в лоно библиотеки. Я упоминал о постоянстве. Вы по нескольку раз брали одни и те же произведения, некоторые из них с отменной регулярностью: по шесть раз «Дон Кихота», сонеты Шекспира, «Тристрама Шенди», «Последний день заключенного», «Клода Ге», «Отверженных», «Человека, который смеется», «Бувара и Пекюше», «Воспитание чувств», «Тайфун», «Сердце тьмы» и «Портрет художника в юности»; восемь раз «Жака Фаталиста», «Новеллы» Эдгара По во французском переводе Бодлера; двенадцать раз «Капитана Фракасса» и «Саламбо», восемнадцать раз – «Тружеников моря». Таким образом, если не ошибаюсь, девятнадцать названий взяты сто пятьдесят раз. Похоже, у вас страсть к романам Виктора Гюго, а ваша неукротимая приверженность к «Труженикам моря» меня заинтриговала. От этого выбора веет глубокой иронией и пессимизмом, да еще меланхолической тягой к одинокой свободе высот или бездн. Мечта о логике и логика мечты. Вы не так далеки от навязчивой идеи, без которой невозможно что-либо осуществить. Видите, ответ на мой вопрос о вашем пребывании у мадам Гамильтон уже имелся в моей картотеке, а стало быть, вопрос носил чисто риторический характер, что вы и заподозрили, если судить по вашей вполне оправданной наглости.
Меня покорила не столько убедительность его наблюдений или оригинальность их метода, сколько тембр и переливы его голоса. При последнем его замечании я вновь насторожился. Если оно и не носило более интимного характера, то во всяком случае задевало меня больнее, и в нем мне почудилось едва ли не лукавство, потому что основывалось оно в большей мере на красоте Александры Гамильтон и ее власти вообще, нежели на личных культурных или иных пристрастиях спутников, испытывающих силу ее притяжения. Впрочем, Уайльд косвенно признался в своей подтасовке, отметив мою немудрящую проницательность в отношении смысла его вопроса.
Уайльд оборвал этот диалог, или скорее монолог, так же неожиданно, как начал, спросив меня, не хочу ли я взять какие-нибудь книги. Я выбрал Апулея, ДеКвинси и Марка Блока. Тщательно заполнив формуляры, которым предстояло обогатить исследования Уайльда, касающиеся читателей библиотеки, я взял с полок книги и вышел, простившись с библиотекарем. Он уже снова сидел в своей обычной позе, молча углубившись в работу, и едва ответил на мой поклон.

|